ПРАСОЛОВ
ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Член Союза писателей России
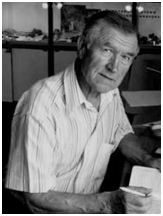 Евгений Васильевич Прасолов родился 20 февраля 1941 года в деревне Лебеди Губкинского района Белгородской области. Отец погиб в июле 1943 года. Мать воспитывала двоих детей одна. Учился в Старооскольском геологоразведочном техникуме, потом работал геологом в Якутии на поисках алмазов. Служил в армии. Окончил Всесоюзный заочный политехнический институт, при нём — очную аспирантуру. Почти всю жизнь провёл в родном городе Губкине, работая в НИИ по проблемам КМА, в редакции городской газеты «Новое время», директором краеведческого музея, заведующим музеем Губкинского института МАМИ.
Евгений Васильевич Прасолов родился 20 февраля 1941 года в деревне Лебеди Губкинского района Белгородской области. Отец погиб в июле 1943 года. Мать воспитывала двоих детей одна. Учился в Старооскольском геологоразведочном техникуме, потом работал геологом в Якутии на поисках алмазов. Служил в армии. Окончил Всесоюзный заочный политехнический институт, при нём — очную аспирантуру. Почти всю жизнь провёл в родном городе Губкине, работая в НИИ по проблемам КМА, в редакции городской газеты «Новое время», директором краеведческого музея, заведующим музеем Губкинского института МАМИ.
Пишет стихи, прозу, публицистику. Сам поэт называет своё творчество большим увлечением, которое прошло сквозь всю его жизнь.
Печатается в губкинских, белгородских и московских газетах. На стихи Евгения Васильевича написаны песни «Губкинский вальс», «Апрельская шутка», гимн ДС «Кристалл» и др. Были изданы сборники его стихотворений «Люди любовью живы», «Завороженные дали», «Две судьбы у меня», «Там, где за речкой Оскольцом...».
За доблестный труд Е.В. Прасолов был награждён медалями и грамотами, а за творческий вклад в литературу в 2001 году был признан «Человеком года».
МОЙ ТЕСТЬ — ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
 |
| Шульженко Михаил Тихонович |
Я уже как-то писал в нашей газете «Новое время» о том, что не очень мне нравится слово «участник» по отношению к тем, кто воевал. Рассуждая при этом, что можно говорить об участии в каком-нибудь, скажем, митинге, в забеге на дистанцию, в конкурсе, в ограблении банка, наконец. Но в войне (читай: в защите Родины) и — принять участие?! Нет, это что-то не то. Поэтому и предложил (по аналогии с бытовавшим в пору моей молодости общим и устойчивым выражением в отношении к старым ветеранам «герой Гражданской войны») называть нынешних ветеранов так: «герой Великой Отечественной». Чего они все, вне всякого сомнения, заслуживают.
Что же касается моего тестя (Михаила Тихоновича Шульженко), то, когда его призвали на войну, дали ему на двоих с его земляком одну винтовку образца 1905-го года со словами: «Другую отнимете у фрицев». Земляк был хохол, звали его Мыкола. Говорит он моему тестю:
— Нэ горюй, Мыхайло, мы у нэмця нэ будэмо винтовку видниматы, а зараз — пулемёт. Вот тоди и повоюемо.
Шутник, значит, был. А с такими Тёркиными на войне, по рассказам самих же ветеранов, всегда легче воевалось. Правда, у наших героев до пулемёта тогда дело не дошло (это был один из самых тяжёлых для страны периодов войны), а оказались через некоторое время они в окружении и попали в числе многих других в плен. Тестя осколком снаряда ранило в правую руку повыше запястья. Осколок остался сидеть в руке, хотя и неглубоко. Всех пленных, кто не мог совсем идти, немцы добили выстрелами в голову, остальных погнали. Гнали двое суток, на третьи остановились в каком-то месте, там предстояло рыть окопы. Рана у тестя к тому времени уже загноилась, рука покраснела и опухла, начался сильный жар, и тесть уже плохо чего соображал. Похоже, начиналось заражение, Мыкола, сам еле державшийся на ногах, мрачно шутил:
— Яка пильза будэ от тэбэ нэмьцям?
Он и ещё один пленный выковыряли ножом из раны товарища осколок, обрывки застрявшей там одежды с землёй, заставив тестя скрежетать зубами и корчиться от боли. Рану промыли и перевязали подручным материалом, приложив несколько найденных на месте листьев подорожника.
Окопы рыли под удары палок и свист плёток. Кормили какой-то баландой два раза в сутки — утром и вечером. Спали под открытым небом. Многие из раненых, теряя последние силы, утром не могли уже встать. Их добивали и оттаскивали в общую яму. Был твёрдым кандидатом в эту яму первые несколько дней и мой тесть, но друг Мыкола всякий раз из последних сил заставлял его подняться, а когда шли в колонне к окопам, незаметно для охранников поддерживал, не давая упасть во время ходьбы. Потом рана стала понемногу заживать, крепкий организм и воля к жизни взяли своё. А жить хотелось — дома ждали красавица-жена и пятилетняя дочурка.
Как-то среди ночи немцы подняли весь лагерь, построили в две шеренги и стали выхватывать пленных и заталкивать в стоящие рядом машины.
— Если на расстрел, скажу, что я ещё не докопал окоп, — попробовал было и здесь пошутить наш хохол, но, видимо, слишком громко: плеть стоящего рядом охранника тут же рассекла лоб и щёку говорившего.
Ехали с потушенными фарами, значит, близко фронт, там — свои. Прибыли на железнодорожную станцию, занялись разгрузкой вагонов. Немцы были чем- то очень возбуждены и спешили, удары плетьми так и сыпались на пленных. Вдруг налетели самолёты, посыпались бомбы. Трещали пулемёты, захлёбывались лаем зенитки, рвались бомбы, взрывались ящики со снарядами (их-то и выгружали пленные из вагонов), и вдруг огромный огненный столб взметнулся в небо и прогремел страшной силы взрыв, разметавший всё вокруг. Это бомба угодила в вагон со снарядами. Но два наших друга были уже довольно далеко от этого ада, они бежали в ту сторону, откуда прилетели самолёты.
Бежали долго, пока совсем не выбились из сил и не упали. Светало. А когда рассвело, беглецы обнаружили, что они находятся между своими и немцами, так сказать, на нейтральной полосе. Поползли в сторону своих.
 |
| Михаил Тихонович и Анастасия Иосифовна Шульженко |
Вдруг оттуда прозвучал одиночный винтовочный выстрел, как бы спрашивающий: свои или чужие? И тогда, позабыв о всякой опасности, они вскочили и побежали к своим, размахивая руками и крича: «Свои! Свои! Русские!». И тут мой тесть почувствовал, как будто что-то обожгло его ногу и что-то горячее потекло по ноге в сапог. Вгорячах он ещё немного пробежал следом за Мыколой и что-то уже хотел ему крикнуть, как вдруг тот, странно взмахнув руками, упал как подкошенный, уткнувшись головой в траву. Подобравшись к другу и убедившись, что тот мёртв (пуля снайпера попала в голову), тесть, уже теряя последние силы от большой потери крови, всё же дополз до бруствера передней траншеи, где его подхватили бойцы и втащили внутрь. Тут же оказали первую помощь и отправили в санчасть.
Но на этом война для моего тестя, конечно, не закончилась. Оправившись от второго ранения и потери друга, пройдя благополучно через все вопросы и допросы «Смерша» (советской внутренней контрразведки) по поводу своего пленения, он был временно, пока не заживёт получше нога, причислен к обозному взводу. Здесь ему, потомственному крестьянину-колхознику, было не привыкать работать с лошадьми: исправно чинил сбрую, умело ремонтировал колёсно-тележный транспорт, всегда вовремя доставлял к месту назначения любой груз, будь то борщи-каши для солдат или же боевые снаряды для врага. Но однажды во время жестокого боя, доставив к стреляющей пушке несколько ящиков со снарядами, он вызвался заменить на время убитого на глазах подносчика снарядов. В этом бою его снова ранило, и очень серьёзно: осколок вражеского снаряда попал в поясничную область и крепко там застрял где-то у позвоночника. Провалялся немало времени в нескольких госпиталях и был комиссован «по чистой». С осколком в спине. Был настолько слаб и немощен, что командование, отправляя его домой, дало в дорогу до самого дома провожатого.
Только и на этом не закончилась война для моего тестя. Потому что ждал его дома удар похлеще трёх ранений вместе взятых: измена его любимой красавицы-жены. Но это уже другая история. Тесть же — заботами и самоотверженными усилиями родных матери с отцом, перевёзших умирающего сына от загулявшей невестки в свою хату (на обычной двухколёсной тачке), — со временем оклемался, крепко встал на ноги и женился на прекрасной женщине (колхозной, между прочим, трактористке), родившей ему дочь (мою будущую жену) и сына-богатыря. Работал кузнецом и пользовался большим уважением односельчан. Был страстным садоводом-мичуринцем, развёл прекрасный сад и завёл пасеку. Только подолгу сидеть и любоваться плодами своих рук, как это обычно делают садоводы и пасечники, не мог: не давал засевший в спине осколок снаряда. Да и некогда было ему сидеть.
МЫ, ДЕРЕВЕНСКИЕ, РЕБЯТА КРЕПКИЕ
Андрей Александрович Аршинов — участник Великой Отечественной войны. Брал Берлин. Он 20-го года рождения, живёт в микрорайоне Лебеди, дом его — по улице Шахтёрской — со стороны, как говорится, «видный» и внутри просторный. Супруга его вот уж 20 лет как умерла, и живёт он теперь с сыном и невесткой. Когда шёл к нему, откровенно говоря, сомневался — стоит ли беспокоить человека: как-никак, а 93 года! Тем более что В.В. Рожок, председатель совета ветеранов микрорайона, характеризовал мне по телефону его как человека весьма скромного и о себе рассказывать не любителя.
 |
|
Андрей Александрович Аршинов Фото В.Москалёва |
Встреча с Андреем Александровичем произвела на меня впечатление, прежде всего самой внешностью ветерана. Особенно впечатляли мощные затылок и шея, вернее то место спины, где должна была находиться шея.
—Однако!.. — подумалось. — Сюда бы ещё двух бойцов ковра и ринга — Фёдора Емельяненко с Валуевым, — чем не три русских богатырей!
Он неспешно, чуть переваливаясь, подошёл ко мне и так же неспешно протянул руку, промолвив при этом:
—Что-то я тебя не помню.
Но откуда он должен был меня помнить? Ах да, я, представляясь его сыну по телефону, сказал, что мы с его отцом земляки! Оказалось — не совсем. Моей родиной была бывшая когда-то на месте нынешнего Лебединского карьера деревня Лебеди, а его — село Коробково. Но что за важность, город Губкин, выросший на их месте, стал теперь нашей общей малой родиной!
Детство Андрея Александровича, да и юность тоже, были для него далеко не розовыми. В четыре с половиной года он остался без родителей и был определён в Старооскольский детдом. Потом — как продолжение его жизненного пути — колония. Один раз, правда, на этом пути счастье вроде бы улыбнулось нашему герою: его взяла к себе одна учительница и хотела усыновить. Но то ли не понял мальчишка своего счастья, то ли пересилила тяга к вольной жизни, только сбежал он от доброй женщины и бродяжничал потом. А когда исполнилось 17 лет, устроился на работу столяром на мебельную фабрику под Воронежем. Кстати, не изменил профессии столяра в течение всей своей трудовой жизни. Так, после войны он 15 лет столярничал и плотничал в совхозе «Ямская степь». За это время обзавёлся семьёй, растил двух сыновей и две дочери. Растить было нелегко — трудное после войны было время. Поэтому за 15 лет, по словам Андрея Александровича, он не использовал ни одного выходного и не взял ни одного отпуска. После этого работал на стройках города и завершил трудовую деятельность на Лебединском ГОКе.
Человек, много поживший, — что путник, осиливший долгую дорогу: много миновалось мест равнинных и гористых, глухих и живописных, но оглянулся — всё скрыла даль, затуманила, лишь отдельные вершины просматриваются более отчётливо. Только и они уже не оживляют взгляда усталого путника, не будят в нём ощущений, некогда пережитых. То же, видимо, и у нашего ветерана: хоть и живут ещё в памяти многие события, случившиеся на его веку, особенно — военной поры, но говорит он о них скупо и словно бы нехотя. Глаза его при этом часто прикрыты (видно, так ему легче блуждать по затемнённым уголкам своей памяти).
—В 19 лет призвали меня в армию, в железнодорожные войска, а через два года началась война. Прошёл от Воронежа до Берлина.
—И всё — «железнодорожником»?
—Нет, на войне я пулемётчиком был, командовал отделением. В звании — старший сержант.
—Может, какой-нибудь бой помните?
После молчания:
—Вот... под Старым Осколом... в Атаманском лесу, такие бои были! Там, правда, такая ерундовинка получилась. Ранило меня в голову. (Осторожно трогает рукой свою голову выше правого виска.) Осколком — по «черепку». В госпитале отвалялся. Сейчас не болит, но как лягу на эту сторону, так сразу чувствую. А бои. Кто ж их считал, бои-то? Вся война — бой. Я вот служил в отдельной зенитной пулемётной роте, нас часто бросали на трудные участки —то на подкрепление, то на прорыв. Приходилось охранять штаб дивизии, полка, батарею «Катюш». Помню, вышли мы на границу Белоруссии с Польшей, немцы были там в окружении. Очень они дрались, хотели вырваться, да мы не дали. Такие гиблые места были — начинаешь окоп рыть, а через полметра уже — вода. Ерундовинка там такая получилась — ранило меня в бедро, опять — госпиталь. (Снова — молчание.) А в Восточной Пруссии так всю щиколотку на той же ноге раздробило. («Ещё одна “ерундовинка”», — мелькнуло у меня голове.) Но мы, деревенские, ребята крепкие.
—С каким же пулемётом воевали?
—В начале войны — с «Максимом», а потом — «ДШК». Хороший пулемёт, калибр — 12,7 мм. (Глаза его в этот момент открыты, в них — живой огонёк.) Мы его на нашей «полуторке» возили. А потом отняли у фрицев «Опель», так на ихнем «Опеле» гнали их до самого Берлина.
—Берлин трудно дался?
—Да-а. Мне за него медаль «За отвагу» дали. Есть, правда, ещё два ордена — «Славы» и «Отечественной войны», — но эта медаль мне ближе.
—Вы и День Победы в Берлине встретили?
—Нет, мы к этому времени дальше с боями пошли, ещё один городок взяли, называется. — он пытается что-то выговорить, но — то ли не выговаривается, то ли забыл название — машет рукой и надолго замолкает. Глаза его прикрыты. Может, устал? Но сидит он прямо и спокойно. Я смотрю на его мощный загривок, любуюсь.
—Как у вас со здоровьем? В больницу часто обращаетесь?
—Не, никогда туда не ходил. Приходил как-то, правда, двери, окна им делать.
—И зубы, смотрю, у вас ещё свои.
—Уже мало осталось. С 63 лет начали понемногу болеть, так я их понемногу стал выдёргивать. Но жую пока своими. И читаю без очков.
—А как к вам дети, внуки, правнуки?.. Не обижают?
—Да, слава Богу, в мире живём.
Молчит. Потом проводит рукой по густой щетине на подбородке:
—Две недели вот уже не брился, а так я красивый.
Не пойму, пошутил или — всерьёз. Прощаясь, желаю ему всего хорошего, а главное — не болеть.
—Да что я, дурачок, что ли, чтобы болеть! — отвечает опять с серьёзным выражением лица.
Э-э, да он и впрямь, видно, не без юмора! Признак здорового ума!
Одеваясь в прихожей, наблюдаю краем глаза через проём двери за кухней, где остался мой собеседник. Он стоит у столика и, опершись на него одной рукой, наливает другою в большую чашку компот, зачерпывая его вместе с яблоками половником из кастрюли. Наполнив чашку почти до краёв и осторожно ступая, несёт её, держа одной рукой, через всю огромную кухню к большому столу. Я застыл и не дыша, словно болельщик на трибуне, наблюдаю: прольёт или не прольёт? Не пролил!
...И долго ещё, пока я удалялся от дома Аршиновых по длинной улице Шахтёрской, в голове у меня крутилась фраза старого ветерана:
—Мы, деревенские, ребята крепкие.
ГИБЕЛЬ ЗЛАТОВЛАСКИ, ИЛИ ФАШИСТ ПРОЛЕТЕЛ
Всё дальше уходят от нас события военной поры, всё меньше остаётся участников и свидетелей тех событий. Но пока они живы, мы должны как можно больше сохранить из того, что оставят нам они в своих воспоминаниях, чтобы передать следующим поколениям, чтобы как можно дольше жила в нашем народе память о той страшной войне.
Я войну, по причине своего возраста, почти совсем не помню. И всё же осталось из раннего детства одно воспоминание, вернее, разговор взрослых в семье, который долго потом жил во мне, и я всё не мог понять, имел ли он какое- нибудь отношение к войне или нет. В этом разговоре фигурировал некий Яков Ильич, который жил где-то в Харькове и у которого была дочь Валюшка, красавица с роскошной ниже пояса русой косою. И эту косу Яков Ильич сам расплетал и потом расчёсывал большим гребнем. А потом, видимо, что-то случилось, так как в памяти лишь оживала фраза: «Яков Ильич очень по ней убивался, говорил «не хочу жить». Мне этот разговор потому, может, и запомнился, что будил моё детское воображение о сказочной Златовласке, у которой Иван-царевич должен был, рискуя жизнью, раздобыть три золотых волоска.
С годами разговор про Якова Ильича расплылся в моём сознании, слившись с другими разговорами взрослых, тянущимися, по обыкновению, из детства непрерывной чередою. И в пору молодой, наполненной другими заботами, жизни не было особенного желания копаться в них. А когда такое желание появилось, оказалось, что переспросить уже не у кого. Разве что на погост наведаться.
Но, видимо, не суждено было умереть во мне этому воспоминанию. Как-то зазвонил сотовый:
— Это Женя? Ни за что не узнаешь, кто звонит!.. Это побочная дочь Якова Ильича, родного брата твоего дедушки Ивана Ильича.
И вот я у Зои Яковлевны. Она недавно попала под машину и теперь лежит со сломанной ногой. Выясняем отношения — кто есть кто. Получается, что она моя двоюродная тётя, родом, как и я, из Лебедей, у неё четыре симпатичных дочери, значит, они мои троюродные сёстры. У них самих уже внуки. Зоя Яковлевна показывает мне старую довоенную фотографию, на которой — мой дедушка Иван Ильич (я вижу его впервые), вокруг него — дедушкины племянники — дети Якова Ильича. Словоохотливая Зоя Яковлевна говорит о каждом. Я обращаю её внимание на стоящую с краю девочку-подростка, о которой ещё ничего не было сказано. Моя собеседница вздыхает:
—Это Валюшка, любимица отца. Тут ей лет 12, а когда погибла — 17 было. Красавица была!
—Да как же погибла-то?
—Немец летел, а она окно открыла — посмотреть, наш самолёт или немецкий. Он и бросил гранату в окно... По кусочкам потом собирали. Очень отец по ней убивался: не хочу, говорил, жить.
И в моей памяти вдруг оживает семидесятилетней давности сказка о Златовласке и тут же гаснет. А ещё вспоминается знаменитая картина известного художника А.А. Пластова, написанная им в самое трудное для страны время — первые годы войны. На картине изображены тихая осенняя природа, пасущееся у опушки леса стадо коров и — на переднем плане — лежащий в неестественной позе убитый мальчик-пастушок и воющий рядом с ним пёс. А вдали, у самого горизонта, — маленькая фигурка улетающего самолёта. Картина называется «Фашист пролетел». Сколько же их тогда над нашими городами и сёлами вот так пролетело!
 |
|
Фашист пролетел А.А. платов, холст, масло, 1942 год Государственная Третьяковская галерея, Москва |
Мой тесть – герой Великой Отечественной // Звонница. – 2015. – С. 36-42.